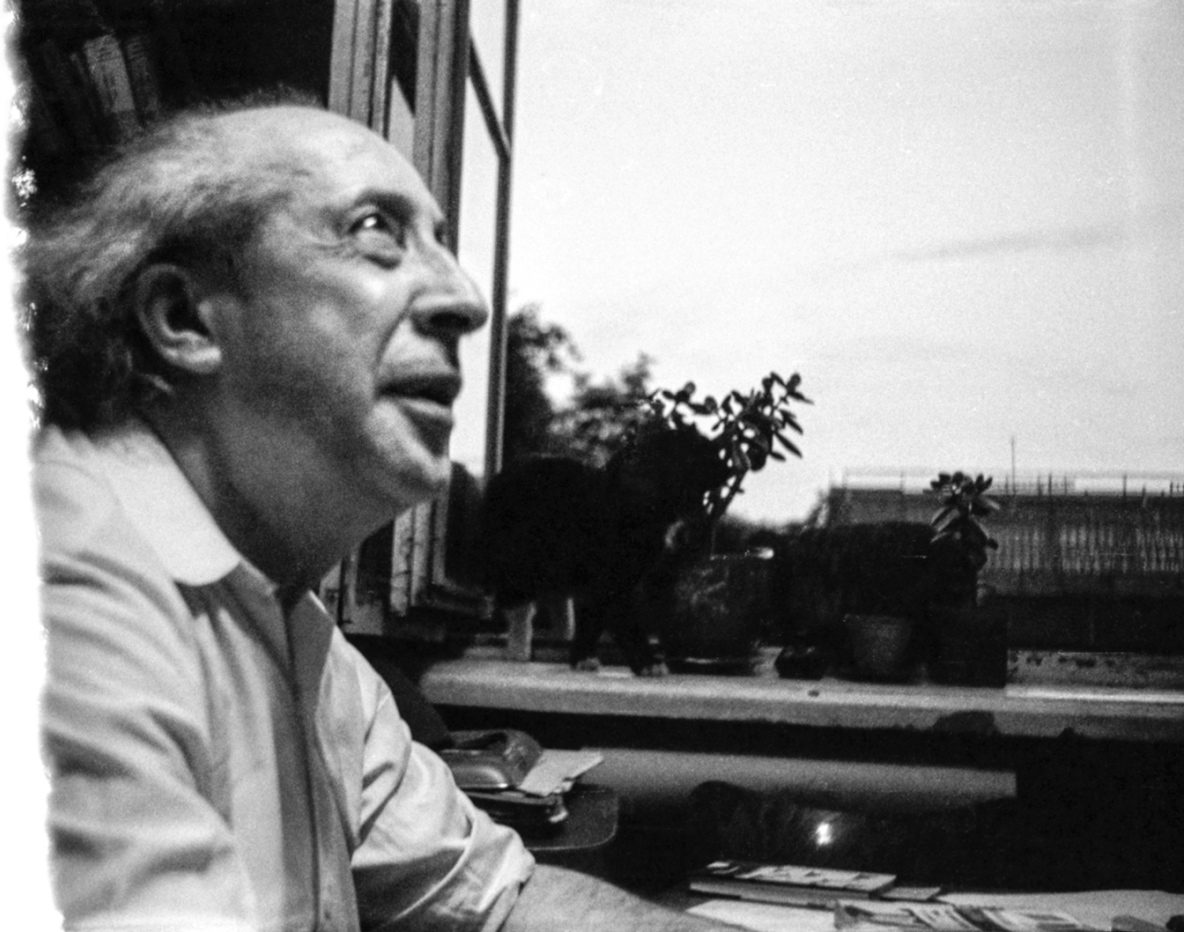Осенью 1925 года, неполных восьми лет, я пошел в школу. Посещение школы тогда еще не было ни «долгом», ни «обязанностью». Мой друг Юра Колосов поучился год в первом классе, а потом его из школы забрали — родители решили, что удобнее ему учиться дома, — а в четвертый класс он снова вернулся. Теперь бы им этого сделать не позволили.
Коммунисты планировали совершенную ликвидацию семьи, каковая, по мнению Фридриха Энгельса, порождена частной собственностью и с ее отменой сама собой тоже отомрет. Разумеется, коммунисты помогут ей «отмереть»: введут обязательное «общественное воспитание детей»[1]. Пример подал один из провозвестников коммунистической мифологии Руссо. Этот большой педагог отдавал своих детей в сиротские дома и никогда уже больше не справлялся об их дальнейшей участи. Он не желал обременять свою «философскую» жизнь такими мелкими обязанностями. Оправдывая свое поведение, Руссо утверждал, что «пребывание в воспитательном доме» было для его детей «гораздо менее опасным», чем в «дурно воспитанной семье»; сиротские дома‑де вырастят детей «полезными членами общества».
Оставляя на совести Ивана Яковлевича[2] вопрос о том, сколь дурно было бы детям в его семье, отметим, что он больше печется об «обществе», чем о детях и родителях. Кажется, и все коммунисты пекутся о человечестве, а не о людях.
В одном из романов Уэллса детей в обществе будущего воспитывает «машина‑мама». До машины еще не дошло, но детсады и ясли уже стали повсеместны. И едва ли не большинство обывателей охотно ими пользуется или хотело бы пользоваться. И если они у нас не строго обязательны для всех, то только потому, что средств у государства мало.
Я воспитывал своих детей дома, но с младшим сыном я выдержал множество нареканий со стороны мудрых знакомых, которые объясняли мне, что я отстал от времени, что теперь необходимо воспитание в «коллективе», иначе мой Юрочка будет плохо чувствовать себя в школе, и т. п. На все это я отвечал анекдотом, очень похожим на правду: мальчик, придя вечером домой после первого дня в детском садике, сразу же схватил своего любимого Мишку и, уткнув его носом в стену, нарочито грубым голосом закричал: «Стой в углу, сволочь паршивая!»
Школ в Москве в середине 20‑х годов было мало. Но зато каждая школа была неповторимо индивидуальна по архитектуре, расположению классов и зал. Сталин приказал размножить в тысячах экземпляров одно «типовое» здание (о чем и мечтал, как мы помним, Фома Морус). И здание это очень напоминает не то казарму, не то полицейский участок (говорят, было запланировано в случае войны размещать в школах госпитали; стало быть, обучение детей на это время предполагалось прекратить). Для школьных нужд оно мало пригодно не только эстетически, но и функционально — нет ни актового, ни рекреационного, ни спортивного залов, нет столовой, коридоры узкие, так что детям на переменах негде размяться. По сравнению с этими казенными домами здания 4‑й гимназии на Покровке (арх. Растрелли) и Мариинского пансиона на Софийской набережной кажутся дворцами. Такие школы любовно запоминаются на всю жизнь самим своим обликом.
Таким запоминающимся было и здание моей первой школы: ампирный особняк, возведенный в 1836 году для П. А. Самсонова, с коринфскими колоннами, с огромным актовым залом в бельэтаже, с деревянной лесенкой на второй этаж и небольшими классными комнатами. В начале 30‑х годов эту школу закрыли, и здание передали судейскому ведомству.
Находилась моя школа, по нынешним понятиям, далеко от дома: в конце Пречистенки, недалеко от Зубовской площади. Шел я туда минут 15–20. Нужно было выйти на Остоженку, пересечь ее и выйти Лопухинским или Дурновским переулком на Пречистенку. Маршрут был не очень опасный (только переход через Остоженку), а водить меня в школу было некому, так что вскоре я стал ходить без провожатых.
За весь год на этом пути со мной произошла только одна неприятность, запомнившаяся, правда, на всю жизнь. Вход в школу был со двора. Можно было войти во двор через ворота, можно — через калитку. Когда я пересекал линию ворот, меня толкнул радиатором выезжавший со двора грузовик, и я упал. Больно не было. Грузовик остановился. Я встал и пошел в школу. Но испугался я смертельно и навсегда запомнил предсмертный ужас и медленное течение почти остановившегося времени надо мной, когда я лежал на асфальте и ждал, что грузовик проедет по мне. Подобный ужас и то же впечатление остановившегося времени испытал я еще раз лет через десять. Мы сидели с Юрой Колосовым у меня. Шел дождь, нам хотелось курить, а папирос не было. Я надел длиннющий макинтош и отправился по магазинам. Но папирос нигде не было. Было темно. Дождь перешел в ливень. Я стал переходить улицу и не заметил трамвая из‑за капюшона, спустившегося мне на глаза. Трамвай заворачивал с Ленивки на Волхонку. Я заторопился, упал на рельсы. Вожатый успел затормозить, меня подхватило передней решеткой, а трамвай остановился. Все это продолжалось, должно быть, менее минуты, но я успел пережить так много, увидеть столько «картин», что мне показалось, будто прошло страшно много времени (позже я встретил что‑то подобное в описаниях предсмертных душевных переживаний у Толстого и Достоевского).
Четких воспоминаний от первого класса сохранилось немного. Господствующее впечатление — радующая новизна моего нового состояния. Из этого можно вывести важное заключение: школа еще не противоречила семье. На следующий год, в другой школе я резко ощутил и осознал, что школа уводит меня от родителей, во всем противоречит их образу мыслей, каким‑то их нормам и правилам.
Так оно и было на самом деле. Это был вариант все того же «стирания» прошлого, превращения его в tabula rasa, разыгрывавшийся на «школьном фронте». Большевики всю нашу жизнь превратили в непрерывную войну, фронт был всюду — в науке и в искусстве, в семье и педагогике, на производстве и в отдыхе. Всюду фронт классовой борьбы: «Мы говорим: наше дело в области школьной есть та же борьба за свержение буржуазии; мы открыто заявляем, что школа вне жизни, вне политики — это ложь и лицемерие» — так было написано в кратком отчете о выступлении Ленина на I Всероссийском съезде по просвещению 28 августа 1918 года[3].
В первом классе я на себе еще не почувствовал, что означает включение школы в политику советской власти. Это испытание было у меня впереди. Мне было в школе хорошо. В занятиях не было никаких трудностей: я читал, писал, считал задолго до школы. За весь год я помню только одно замечание, которое мне сделала наша учительница: она сказала, что я напрасно стал писать крупными буквами — она‑де просила писать крупнее не меня, а другого ученика. Она, однако, ошиблась: я вообще не слышал ее замечания и писал так, как бог на душу положит…
Впрочем, все мои успехи по «академической» части перечеркивал мой провал на первом уроке: на вопрос, где у меня правая рука, я поднял правую руку, а на просьбу показать правое ухо я указал левое.
Это — почти все, что твердо осталось в памяти от первого класса. Не многим более помню я и людей. Внутренним зрением я вижу нашу учительницу Нелю Станиславовну — полную (тогда я бы сказал — толстую), огромных размеров женщину, с крупными, мясистыми чертами лица, говорившую грудным голосом. Помню трех‑четырех учеников (из 30–40!) — и ни одной девочки. Рядом со мной на парте сидел Костя Фроловский. Его я и помню лучше других (так случай дает нам друзей, врагов же выбираем мы сами). Еще помню Адю Хлопко, Гагу Радзюнского и какого‑то бесфамильного Толю. В памяти об этих лицах есть один удивляющий меня феномен: я вижу их теперь такими, какими они были тогда, а были они маленькими ребятишками. Но вместе с тем они как‑то соотнесены со мною и психологически, и физически: они остались в моем внутреннем зрении моими вечными сверстниками, мысленно они соизмеримы со мной теперешним, со стариком.
Однажды Адя Хлопко позвал меня к себе домой. Он жил недалеко от Крымской площади, где‑то на Чудовке. У него дома я впервые в жизни увидел радиоприемник и услышал радио. Мне кажется, это был самодельный механизм, сконструированный его отцом. По‑моему, советских радиоприемников тогда в продаже не было. Впрочем, большого впечатления приемник на меня не произвел.
С Костей мы не раз встречались и после того, как оказались в разных школах. Он жил неподалеку от нас на Остоженке. Видал я его и в нашей церкви Воскресения: Костя был в каком‑то долгополом одеянии и нес светильник вслед за причтом. Я был удивлен, так как не знал, что простой мальчик может участвовать в исполнении каких‑то обязанностей в храме. И обрадован: мне было приятно, что Костя, как и я, верующий. Однако вера моя продержалась недолго — советское окружение взяло свое. Возможно, то же было и с Костей. К седьмому классу я не знал ни одного своего сверстника, сохранившего веру. Но я уже не мог бы спросить об этом самого Костю. Наши встречи были случайными и становились все более редкими. Потом мне стало казаться, что я вижу Костю, — я приветливо кивал ему головой, но он равнодушно шел мимо. По‑видимому, я ошибался, а может быть, он перестал уже меня узнавать. Так постепенно совсем исчез для меня мой первый школьный друг.